
Арабская весна: революция или смута?
И. Л. Алексеев,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН
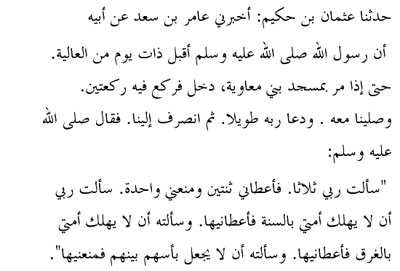
Рассказал нам ‘Усман б. Хаким со слов ‘Амира б. Са‘да, который сообщил, что Посланник Божий, да пребудет над ним благословение Его и мир <…> сказал:
«Я просил у Господа моего три [вещи]. Он даровал мне две, а в одной отказал: я просил Господа моего не погубить общину мою засухой, ‑ и Он даровал это мне; я также просил Его не погубить общину мою потопом, ‑ и Он даровал мне это; я просил я Его не обращать ярость их друг против друга, но Он отказал мне в этом».
Сахих Муслим. Книга фитн и признаков Часа. Хадис 20–2890
В ходе арабских революций 2011–2012 г. во всех странах, где произошла смена власти, пришли к власти политические силы, опирающиеся в своей идеологии и практике на исламскую риторику и исламские ценности. Несмотря на то, что такой исход событий предсказывался многочисленными исследователями и аналитиками, это стало настоящим вызовом для не искушенного в исламской проблематике наблюдателя как на Западе, так и в России. Соответственно, оценки этих — отметим, промежуточных — итогов революционного процесса в регионе разнятся: от оптимистических восторгов мусульманских публицистов по поводу того, что наконец исполнилась мечта поколений –восторжествовала высшая справедливость и будет установлена власть — истинно исламская и истинно демократическая одновременно — до панических в своей исламофобии прогнозов, предрекающих региональную и в перспективе глобальную катастрофу, Афганистан от Магриба до Китая, остановку развития и откат в «средневековье».
Проблема состоит в том, что нельзя говорить об «исламистах» и «исламизме» как едином идеологическом и политическом явлении. Фактически, «исламизм» — это политологическая химера. Говорить надо не об исламизме, а об исламе и мусульманском обществе или обществах. Если мы посмотрим с этой точки зрения, то станет очевидно, что в результате т. н. «арабской весны» пришли к власти те силы, которые доминировали в оппозиции, но не в подполье, и произошло это там, где это было позволено. В странах Залива, например, «весна» была заморожена на самых ранних этапах. При этом силы эти — разные. Между тунисской «ан-Нахдой» и египетскими «Братьями-мусульманами» с одной стороны и малийскими «Ансар ад-дин», которые сейчас громят мусульманские же святыми, с другой — гигантская разница не только в политических, но и в религиозных воззрениях, не говоря уже о практике. Сирийская оппозиция вообще трудно поддается какой-то идеологической идентификации.
На наш взгляд, происходит разрушение постколониальной системы управления регионом, основы которой были заложены в период между Первой и Второй мировыми войнами, и которая прибрела окончательные очертания в 1950–70‑е гг.
Сегодняшняя революционная волна в арабском мире уже третья с начала ХХ в. Первая такая волна, собственно и названная Великой арабской революцией, происходила в 1916–1918 гг. и была частью Первой мировой войны, итогом которой на Ближнем Востоке стал территориальный раздел Османской империи и возникновение «страновых» ( актар , ед. ч. кутр ) арабских национальных государств [1]. Границы этих государств были закреплены системой мандатов Лиги наций, выданных колониальным державам, действовавшим в этом регионе. Эта мандатная система стала переходным этапом к формированию нынешней политической карты арабского мира, скорректированной второй волной антимонархических революций, произошедших в части арабских стран в 1950–1960‑е гг. и закрепивших окончательное становление вестфальско-ялтинской системы международных отношений применительно к Ближнему Востоку и Северной Африке. Собственно говоря, исторический смысл мандатной системы состоял в том, что она была инструментом колониальной модернизации региональных обществ, вписывавших в мировой порядок новейшего времени, а антиколониальные революции после Второй мировой войны положили начало процессу раздела сфер влияния сверхдержав в регионе в рамках так называемой биполярной системы «Восток‑Запад». Таким образом, арабские страны, как часть того то, что потом будет названо «Большим Ближним Востоком», стали одной из важнейших структурных частей «третьего мира», рассматривавшегося как арена противостояния «первого» — капиталистического и «второго» — социалистического миров.
Пишущему эти сроки уже приходилось, комментируя революцию 25 января в Египте, высказывать идею, что происходящие сегодня в арабском мире события демонстрируют типологическое сходство с советской «перестройкой» 1980‑ч гг., разрушившей иерархию политико-экономических «миров» XX в. по степени их экономического развития и политической гегемонии, и что по аналогии с теми событиями наблюдатель вправе рассматривать арабскую «перестройку» 2011 г. как возможное начало конца так называемого «третьего мира». Эти ожидания — безотносительно любых конспирологических построений — выглядят вполне обоснованными уже хотя бы тем, что политическая конфигурация в регионе, полностью обязанная своим возникновением глобальным политическим трендам XX в. очевидным образом перестает отвечать изменившимся историческим условиям [2].
Современный глобальный тренд связан с окончательным преодолением наследия «проекта Модерн» со всеми его составляющими — национальным государством и политическим национализмом, индустриальной модернизацией, технократией, секуляризмом, глобальными полюсами силы и пр. Сегодня формируется принципиально иная концепция распределения мировой власти, опирающаяся на консенсус транснациональных элит, объединенных неким подобием средневековой патронажно-клиентельной связи, своего рода «неофеодализм».
Таким образом, мы можем констатировать очевидный кризис стратегии «вторичной» или «догоняющей» модернизации в арабском мире, выражающийся в кризисе институтов национальных государств, реализовывавших эту стратегию. Это отнюдь не означает неизбежности быстрого исчезновения этих национальных государств. Скорее, надо говорить именно о структурном кризисе системы международных отношений и глобальной политики, отражающемся в возникающей дестабилизации на региональном и локальном уровнях С другой стороны, сама эта модернизация (в какой бы степени ни были различны ее темпы, объемы и достижения в каждой и революционизированных стран) вкупе с глобализацией информационных потоков ускорила рост социальных ожиданий населения во всех этих странах и катализировала протестные настроения в отношении режимов, которые — при всех различиях их институционального дизайна, идеологической окраски и политической ориентации — объединяет авторитарный или автократический характер власти.
Внешний характер модернизации в арабском (и шире — мусульманском) мире, характер которой обуславливался так или иначе столкновением традиционного мусульманского общества с европейской колониальной экспансией, и вытекающие отсюда трудности неоднократно обсуждались в востоковедной литературе. Кризис такой модернизационной стратегии на фоне общего кризиса Модерна как миропроекта и капитализма как социально-экономической формации, являющейся базисом этого проекта, на который также указывали практически все ведущие философы и социологи ХХ в., создает кризис теоретических моделей, которые сколько-нибудь удовлетворительно исторически объясняли бы происходящие процессы[3]. Это в особенной степени касается мусульманского общества, интерпретировать которое с точки зрения европоцентристских концепций было затруднительно даже во времена, казалось бы, бесспорного торжества «западной демократии» в ее либерально-буржуазной или марксистской версии.
В этой ситуации повышается эвристическая ценность объяснительных моделей, разработанных вне парадигмы сугубо западных учений о человеке и обществе. Исламская цивилизация, к счастью, дает нам пример аутентичной социологии традиционного мусульманского общества, разработанной на базе классической арабо-мусульманской историографии и, по мнению многих исследователей, предвосхитившей многие открытия европейских политических мыслителей Нового времени. Речь идет об историко-социологической концепции Абд ар-Рахмана Ибн Халдуна (1332–1406). Ранее пишущим эти строки уже была предпринята попытка рассмотреть процессы арабской весны в инб-халдуновской оптике[4].
Остается нерешенным вопрос о характере процессов «арабской весны». Можно ли их вполне обоснованно называть революциями? Если так, то каковы, собственно, принципиальные формационные изменения были достигнуты в их результате? Исследователи и аналитики предлагают различные определения рассматриваемого процесса. Например, известнейший европейский исламский деятель, публицист и политолог Тарик Рамадан неоднократно утверждал, что он не видит в просиходящем «ни весны, ни революции», но видит в этом пробуждение арабских обществ после длительного периода интеллектуальной и политической стагнации[5]. С. Е. Кургинян прямо называет эти революции — «перестройками»[6].
Представляет интерес предложенная Е. И. Зеленевым и поддержанная рядом исследователей характеристика «арабских революции» как фитны[7] . К сожалению, эта аналитическая модель не получила пока достаточно подробной теоретической разработки. Вместе с тем, представляется, что термин фитна достаточно точно описывает происходящее и вполне согласуется с тем, что в российской политической традиции именуется «перестройкой».
Как укзывает Е. И. Зеленев, в основе смысла понятия фитна лежит значение глагольной основы фа-та-на — «очаровывать, околдовывать, соблазнять». Таким образом, фитна представляет собой нечто стихийное, неразумное и неосознанное. Ввиду чего, упоминания о фитне в Коране носят негативный характер. В частности говорится, что фитна больший грех, нежели убийство (Коран. 2:191). Это в свою очередь, можно объяснить тем, что любая фитна , по определению, является отклонением от «правильного пути», определенного в Коране.
В схожем значении используется и термин фауда, при этом фитна обычно является ее предвестницей. Поэтому верным будет отметить, что « фитна характеризует особое состояние сознания участников выступления, тогда как фауда скорее определяет состояние общества, пораженного смутой»[8].
Более подробный анализ употребления термина фитна в Коране, хадисах и исламской богословской литературе показывает, что его базовым значением является «испытание» «искушение», в частности, «испытание веры» или, как говорят раннеисламские комментаторы, «проверка на прочность, подобно тому как золото проверятеся огнем» [9] . (“Ваши дети — испытание вам” [Коран, 8:28; 64:15]) . Термин фитна также неоднократно употребляется и в значении такого испытания, которое одновременно является и наказанием неправедных (Слова Всевышнего, адресованные обитетлям Ада ( джаханнам ) “Вкусите вашей фитны’’ [51:14]). Фитна — это не столько внутренний соблазн, сколько внешние экстремальные обстоятельства, в которых человек рискует потерять веру и нравственные ориентиры (“Господи, не введи нас во искушение ( фитна ) перед теми, которые не веруют!” [60:5]). Наконец, собственно смута, грозящая утратой не только истины, но и жизни: “ фитна хуже убийства ” (2:191; ср. 2:217).
В этом последнем значении термин фитна , понимаемый как неповиновение Божественному Закону, стал использоваться для описания гражданской войны, которую ведут религиозно-политические партии ( хизб, ши‘а ), образующие группы или «секты» ( та’ифа, фирка ), выдвигающие ангажированные интерпретации вероучения ( дин ), угрожающие чистоте веры[10]. Так, одним из первых событий, названных мусульманскими историографами фитной была гражданская война в Халифате между Омейядами и Алидами в 7 в. Характерно, что использованный в качестве эпиграфа хадис также приводится в собрании Муслима в книге «смут ( фитан ) и испытаний».
Особый интерес представляет категория «революция» и способы ее передачи в терминах мусульманской политической культуры. В то время, как в турецком и персидском языках для передачи понятия «революция» был избран арабизм инкилаб (букв. «переворот», revolt), в арабской политической речи употребляется термин саура («восстание»). При этом характерно, что до последней четверти 19 в. этот саура и фитна использовались фактически как синонимы. Собственно, позитивное значение «революции» как прогрессивного преобразования закрепилось в арабском языке в ходе антиколониальной борьбы к 20‑м гг. 20 в.[11] Однако, целостная теория революции как движущей силы истории и инструмента фундаментальных преобразований в арабской политической культуре так и не оформилась, хотя попытки оформить такую теорию предпринимались Насером и Каддафи[12].
Впечатление фитны усиливается также зафиксированным феноменом использования элементов исламского религиозного дискурса как политической метафоры. Так, в первом туре президентских выборов в Египте в ходе агитации за официального кандидата «Братьев‑мусульман» Хайрата аш-Шатира, впоследствии снятого с предвыборной дистанции за судимость, использовался слоган: «Иосиф нашего времени: он вышел из тюрьмы чтобы править Египтом» ( Йусуф хаза-л‑‘аср, хараг мин ас-сигн ли-йахкум Маср . См. рис. 1 ).

Рис. 1. Предвыборный плакат бывшего кандидата египетской Партии свободы и справедливости —
политического крыла движения «Братья-мусульмане».
Источник: портал газеты «аль-Ахрам» [http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/5057.aspx].
Надо отметить, что подобная политическая метафоризация не является изобретением «Братьев»: в 1979 г. в тегеранском аэропорту толпа сторонников встречала аятоллу Хомейни с плакатами «Имам явился» ( Имам омад — Рис. 2 ). В шиитском контексте это было явной аллюзией на пришествие сокрытого имама ( сахиб аз-заман ), быть которым аятолла, разумеется, ни в коей мере не претендовал, однако функции этой сакральной фигуры были метафорически перенесены массовым сознанием на конкретную фигуру[13].

Рис. 2. Первая полоса иранской газеты «Эттелаат» от 1 фераля 1979 г. с над заголовком «Имам пришел».
Источник: информационно-аналитический сайт «Кудс онлайн» [http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=31395].
Нетрудно заметить, что характерной чертой большинства арабских революций 2011 г. (кроме ливийской) является то, что движущей силой протестного движения была, главным образом, городская образованная молодежь, вовлеченность которой в модернизационные процессы — доступ к бесплатному или льготному образованию и здравоохранению — обусловила рост социальных ожиданий этой группы населения, поддержанной также средними городскими слоями по сходным причинам. Не менее очевидно также, что темпы реального экономического роста не могли обеспечить быстрой реализации этих ожиданий, а политический авторитаризм добавил к этому атмосферу интеллектуальной и духовной несвободы, и все это, в сочетании с неолиберальными реформами в финансовой сфере и геополитической напряженностью в регионе приблизили уровень напряжения в обществе к критическому. Немаловажную роль сыграли здесь структурно-демографические факторы, что было убедительно показано на примере Египта А. В. Коротаевым и Ю. В. Зинькиной[14]
Ливийский случай был, судя по всему, попыткой действительно трайбалистского демодернизационного переворота, однако ‘ асабийа бенгазийцев оказалась недостаточно сильной, что повлекло за собой прямое международное вмешательство. Перспективы развития ситуации, однако, на момент завершения данной статьи оставались неясными, в частности еще и потому, что племенная карта Ливии оставалась со времен Каддафи государственным секретом страны[15]. Исследователи, однако, отмечали, что «именно благодаря полному разрушению связи государства и общества, впервые из всех арабских революций оппозиционное правительство было сформировано до того, как революция закончилась… В отчличие от Туниса, Египта и Йемена, всплеск неограниченного насилия со стороны ливийских властей вынудил многих правительственных чиновников покинуть свои посты и примкнуть к революции. Однако в результате, это привело к тому, что оппозиция лишилась партнера по переговорам в правительственных кругах, на которого она могла бы положиться в переходный период. В то же время, такое отступничество большого количества высокопоставленных чиновников, в том числе, дипломатов, имевших тесный связи с международными организациями, дало революционерам штатом политически опытных новобранцев, который обеспечил революции поддержку на институциональном уровне. Однако, после освобождения ряда ливийских территорий от власти Каддафи, для управления ими возникла неотложная потребность в создании административных структур»[16].
Собственно, нехватка этой самоорганизации и повлекла за собой иностранное вмешательство, без которого ливийская революция попросту бы захлебнулась. Тот же сценарий выглядит весьма вероятным и в Йемене, где племенной фактор, не будучи столь секретным, как в Ливии, однако гораздо более противоречив, что придает ситуации еще большую непредсказуемость. В целом, можно согласиться с теми исследователями[17], которые отмечают, что социально-политические потрясения в арабском мире в 2011–2012 гг. в большинстве случаев имели схожие структурные предпосылки, однако особенности политического развития каждой из арабских стран и — добавим — религиозной ситуации в каждой стране — предопределили различные последствия этих процессов. Практически во всех странах победившей «весны» власть, по существу, осталась в руках прежних элит (или каких-то из противоборствующих внутри этих элит фракций), которые пожертвовали фигурами первого плана ради сохранения (а кое-где, как в Ливии и в Йемене –восстановления, впрочем, весьма относительного) неустойчивого равновесия системы. Последним препятствием для системной трансформации остается Сирия, где единственным катализатором, способным привести к отставке Башшара аль-Асада, является внешняя вооруженная интервенция.
В российской политической аналитике, которая осуществляется, в основном, неспециалистами по Ближнему Востоку и исламу, популярно представление о том, что приход к власти исламистов обязательно означает откат назад в развитии, «политический ислам» трактуется как идеологический и мировоззренческий вызов модерну, своего рода неотрадиционализм или «контрмодерн». В действительности, политический ислам сам по себе неоднороден. Те, кто сегодня пришел к власти в Тунисе и Египте, представляют как раз модернистское крыло политического ислама, идеи которого генетически восходят к кругу мусульманских реформаторов 19 — начала 20 вв. — Джамаль ад-дина аль-Афгани, Мухаммада Абдо, Рашида Риды. Да, это консервативная тенденция, противостоящая религиозному либерализму отцов‑основателей, но эпистемологически она исходит из тех же оснований. Главная идея — освоение мусульманами достижений современного индустриального общества, не только технологических, но и институциональных, и постановка их на службу своим целям и ценностям. «Исламизация модерна» как альтернатива и одновременно способ модернизации ислама. Этот подход лежит в основе широкого комплекса идей, главным пропонентом которого являются «Братья-мусульмане» (по-арабски аль-Ихван аль-муслимун , отсюда встречающееся в профессиональном жаргоне наименование этой идеологии — ихванизм ). Ихванизм как политическая идеология базируется на определенной религиозной доктрине догматического и правового центризма и умеренности ( аль-васатыйа ва-ль-и‘тидаль ), которая предполагает восприятие мусульманской уммы не столько как общины истинно верующих, сколько как универсального исторического субъекта, объединяющего всех мусульман независимо от их внутренних религиозных разногласий, своего рода общемусульманской нации или некоего сверхнационального единства. Это общеисламское единство имеет безусловный приоритет над религиозно-догматическими разногласиями, а его следствием является воздержание от крайних позиций и крайних действий ( гульв ) как во внутри-, так и в межконфессиональных отношениях. Из понимания этого факта, исходят, кстати сказать, и традиционалистские круги Коптской ортодоксальной церкви, имеющие устойчивые, хотя и не особо афишируемые связи с «Братьями». В этом отношении ихванизм следует отличать, например, от ваххабизма — движения, созданного в 18 веке Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом, боровшимся именно за догматическую чистоту суннитского правоверия, как он его понимал. Сегодня его наиболее крайние последователи доходят не только до объявления вне ислама шиитов (все же шиитская догматика довольно сильно отличается от суннитской и шиито-суннитская полемика во все века была весьма острой), но мусульман-суннитов, не разделяющих ваххабитской концепции единобожия. Собственно говоря, когда малийские ваххабиты громят на периферии «арабской весны» гробницы местных святых-марабутов, которые были не только суфиями, но и авторитетными учителями одной из традиционных суннитских школ права — маликитского мазхаба, ‑ они делают это именно из религиозных побуждений, считая почитание святых формой идолопоклонства и «придания Богу сотоварищей» ( ширк ). Поэтому нельзя говорить об «исламизме» как единой идеологии, которая повлечет за собой какие-то однородные последствия. Ихванисты вполне диалогоспосбны и, скорее, будут двигаться в направлении турецкой модели, о чем они и заявляли с самого начала революционных событий. В это же русло ложатся и заявления избранного президента Египта Мухаммада Мурси о том, что он будет поддерживать ровные отношения со всеми странами, включая Саудовскую Аравию, Иран и Турцию. Особый вопрос — Израиль. Победа Мурси была встречена с ликованием в секторе Газа, и новый египетский президент не сможет с этим не считаться. Тем более, что борьба за освобождение Палестины от сионистской колонизации и потом оккупации была и остается важнейшим приоритетом «Братьев» с самого начала их деятельности. Однако, египетские военные, совершенно не заинтересованные в войне с Израилем не столько из-за своей проамериканской ориентации, сколько из-за стратегически невыгодного положения Египта, которое обрекает его на мир с Израилем независимо от симпатий и антипатий любых политиков. Действительно, и эксперты неоднократно указывали на это, в случае начала серьезных боевых действий одного подрыва Асуанской плотины — и страна перестанет существовать. Поэтому борьба с Израилем будет вестись политическими и геостратегическими средствами, т. е. будет игра на создание такой конфигурации в регионе, который сделает существование Израиля в качестве, как говорили в советские времена, «непотопляемого авианосца США», избыточным. Некоторые аналитики уже предсказывают, что Соединенные Штаты найдут себе другой «непотопляемый авианосец», например турецко-сирийский блок, который может возникнуть в случае свержения Асада и к которому может присоединиться ихвановский Египет. Декларативно «суннитский» этот блок сможет существовать только под крышей НАТО и может позиционироваться как гораздо более эффективный проводник интересов международной бюрократии, нежели еврейское национальное государство во враждебном арабском окружении. Конечно, при анализе таких сценариев надо учитывать, что при всех разговорах о панисламизме, «Братья-мусульмане» и родственные им политические силы все же гораздо в большей степени являются частью национального политического ландшафта тех стран, где они действуют. «Хамас» в Газе, собственно «Братья-мусульмане» в Египте, «ан-Нахда» в Тунисе и т. п. — в гораздо большей степени являются палестинскими, египетскими, тунисскими и проч. патриотами и националистами, нежели сторонниками безотлагательного установления нового Халифата. По этой причине, сздание каких-либо эффективных союзов такого рода будет крайне затруднительно. Однако карта эта разыгрываться, безусловно, будет, и разговоры о такого рода возможностях, и спекуляции вокруг этого будут нарастать.
В целом, вопрос о том, как на политическую исламизацию региона повлияет нарушение баланса сил после краха крупнейших светских режимов типа Египта и Ливии и последовавшего за ними усиления монархий Залива, является одним из главных для экспертного сообщества.
На наш взгляд, о крахе в полной мере можно говорить только в Ливии, и то с определенными оговорками. Известно, что успехи антикаддафиевской оппозиции во многом были обусловлены переходом на ее сторону многих членов прежней элиты со всем их административным ресурсом. В таких же странах, как Тунис, Египет, и даже Йемен смены режима, в принципе, не произошло. Наоборот, режимы были сохранены за счет принесения в жертву знаковых фигур первого плана. Собственно, победивший Мурси, тоже пришел к власти, фактически без полномочий, которые остались у Военного совета. Так или иначе, везде, где были потрясения, произошла в итоге интеграция «исламистов» в существующую власть. Более того, египетские левые и либералы, например, воспринимают такое развитие событий как узурпацию революции. Ключевой здесь будет, очевидно, судьба сирийского режима. С большой вероятностью можно говорить о том, что свержение Асада — дело времени. Когда это произойдет, исчезнет ключевой союзник Ирана в арабском мире. Один из возможных сценариев — описанный выше «неоосманский» блок. Однако, я считаю этот сценарий наименее реалистичным. Гораздо более правдоподобным выглядит сценарий «ливанизации» Сирии по образцу Органического статута 1861–64 гг., предполагавшего определенные пропорции представительства всех конфессиональных групп страны во власти под внешним управлением. После снятия французского мандата эта модель легла в основу широко и печально известной «системы конфессионализма», сбои в которой привели к затяжной гражданской войне в Ливане в 1975–1990 гг. Из этой ситуации страна до сих пор ищет выходы путем очень непростого внутринационального диалога, переходящего временами в противостояние. В случае реализации подобного сценария в Сирии появляется большой риск развития ситуации по иракскому сценарию. Таким образом, при любых, даже самых оптимистических сценариях, неизбежно возникает зона турбулентности, разделяющая несколько пока что стабильных режимов, которые и будут основными игроками в регионе. Это Саудовская Аравия и страны Залива (при этом возможно увеличение разногласий между ними), Турция, Иран. На западе арабского мира — Марокко и, возможно, Алжир, которые будут планомерно вовлекаться в разрешение крайне проблемной ситуации в субсахарской Африке и зоне Сахеля.
Вероятно, что эти центры силы станут новыми точками сборками ближневосточного пространства, которые будут осуществлять соответствующее идеологическое влияние на исламском поле. Саудовский ваххабизм, видимо, будет неизбежно либерализовываться под влиянием реформ, медленно, но неуклонно проводящихся правящей в стране династией. В связи с этим фактор салафитского радикализма приобретает важное значение, так как именно с ним придется иметь дело саудовскому режиму. Вполне вероятна очередная волна вытеснения внутрисаудовского радикализма в зону гражданских конфликтов и социально-политчиеской турбулентности, что мы уже вилим на примере Сирии, где саудовцы открыто берут на содержание антиасадовскую оппозицию. Вместе с тем, другие страны Залива, в частности Катар, и, в какой-то степени, Кувейт, будут пытаться играть свою игру, в том числе и против саудитов. В религиозном плане, они будут стремиться поставить под свой контроль ихванизм и сделать «Братьев‑мусульман» и им подобных своими клиентами. Сами ихванисты, имевшие хорошие, хотя и противоречивые отношения одновременно с Саудовской Аравией, Заливом и Ираном, оказываются в этой ситуации заложниками противостояния между этими тремя силами. Первые признаки этого мы видим в изменении позиции «Хамас». Движение, официально поддерживавшееся, как и ливанская «Хизбалла», Сирией и Ираном и имевшее штаб-квартиру своего политбюро в Дамаске, после начала сирийского восстания отказались от поддержки Асада и вышло из игры.
Существует еще один фактор, о котором пока не говорят в контексте политического ислама — это суфизм. Вопреки устойчивому неоспиритуалистскому представлению о суфизме как чисто духовном феномене, проповедующем созерцательность и квиетизм, это явление намного сложнее и глубже. Прежде всего, важно понимать, что традиционный суфизм существует в рамках религиозных братств ( тарикатов ), которые на протяжении довольно длительного времени представляли собой фундаментальную модель социальной организации традиционного мусульманского общества. Модернизация в той или иной степени ограничила влияние тарикатов, но не свела его к нулю. Тарикатские структуры были важным фактором сопротивления обществ региона европейской колониальной экспансии, хотя некоторые братства находились с колонизаторами в довольно неоднозначных отношениях. Европейские державы пытались делать ставку на суфиев в качестве противовеса салафитам и/или ихванистам. Этот же прием актино используется в современной России. Так или иначе, именно в тарикатской среде сохранялись и развивались в том числе и представления о праведной власти, соответствующей традиционной доктрине, от которых они в действительности не отказывались.
Говоря в ибнхалдуновских терминах, ключевым фактором актуальных политических трансформаций является наличие сильных ‘асабийных групп, способных взять власть в ситуации кризиса прежних государственных структур. Видимо, традиционным племенным структурам (там, где они есть) следует отказать в ‘асабийе подобной силы. Действительно, традиционной ‘асабийи хватает на то, чтобы поднять восстание, но ее явно недостаточно для захвата власти, не говоря уже о ее удержании. И здесь приобретает особую важность замечание Ибн Халдуна о том, что наиболее успешной является ‘асабийа, соединенная с религиозной идеей. Несомненно, что религиозное братство ( тарикат ) представляет собой наиболее органичное сочетание этих двух факторов в рамках традиционной организации мусульманского общества[18]. Такие братства являются, по существу, своего рода «протопартиями», способными консолидировать представителей различных слоев общества и лоббировать свои интересы на основе лояльности харизматическому лидеру. Вполне вероятно, что именно они могут оказаться реальной альтернативой новым или обновленным старым авторитарным, псевдоавтократическим или квазидемократическим режимам, которые при поддержке Запада будут установлены в результате нынешних арабских революций[19].
Проблему радикализации исламского политического пространства необходимо разделить на несколько частей. Во‑первых, существует ошибочное представление о том, что «Братья-мусульмане» являются матричной организацией, из которой вышел весь исламский радикализм. Видимо, на этом представлении основывается позиция, в том числе и российского законодательства по отношению к этой организации, которая числится у нас в списках экстремистских и запрещена на этом основании. При этом президент России официально поздравляет М. Мурси — выходца из этой организации — с избранием на пост главы египетского государства. Такое представление основывается на незнании или неверной интерпретации исторических реалий. Действительно, значительное число пассионарных радикалов, образовавших впоследствии джихадистские и террористические организации, было на определенном этапе своей биографии членами движения «Братьев‑мусульман». Однако суть процесса заключается в том, что они именно вышли из этого движения, представлявшегося для них слишком умеренным как в религиозном, так и в политическом отношении. Во многих случаях, этот разрыв действительно стал не только политическим, но и религиозным — радикалы стали усваивать иную, чем у «Братьев» догматику ( акида ) и иную политико-правовую методологию ( манхадж ). Достаточно даже беглого просмотра джихадистских форумов в сети, чтобы оценить остроту их полемики и противоречий с акидой и манхаджем Ихван аль-Муслимин . В этой перспективе говорить следует не о возможной радикализации самих умеренных партий ихванистского толка, а о их вероятном расколе и выделении наиболее радикальных элементов в самстоятельные не только в политическом, но и, возможно, в религиозном отношении организации. С другой стороны, остаются внесистемные радикалы, которые не будут абсорбированы ни одной из мэйнстримных тенденций, связанных с региональными центрами силы, которые также вольются в эту общую картину. В целом, складывается впечатление, что если в 20 веке радикализм сдерживался светскими авторитарными режимами, то в 21 веке этой сдерживающей силой будут умеренные «исламисты» и «пост-исламисты». Ключевой вопрос состоит в том, справятся ли эти умеренные силы в внесистемной радикализацией без внешней поддержки, и входит ли это в планы глобальных игроков, действующих в регионе.
[1] Эпистемология этого процесса, связанная с генезисом и разработкой дискурса арабского национализма подробно рассмотрена Г. Г. Косачом (см. Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, варианты дискурса // Национализм в мировой истории / Отв. ред. В. А. Тишков, В. А. Шнирельман. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2007)
[2] См. Алексеев И. Конец «третьего мира». Историческая и политическая подоплека массовых беспорядков в Египте // Газета. Ру. Наука. Лекции / Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.gazeta.ru/science/2011/02/08_a_3517802.shtml> ‑ 14.04.2011
[3] Наиболее социологически фундированные работы в этой области принадлежат И. Валлерстайну и его школе. См., напр.: Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П. М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001; Валлерстайн И. После либерализма / Пер. с англ. М. М. Гурвица, П. М. Кудюкина, Л. В. Феденко под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. М.: Едиториал УРСС, 2003; Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. Б. Л. Иноземцева; Центр исследований постиндустриального общества. М.: Логос, 2003.
[4] Алексеев И. Л. Между Ибн Таймийей и Ибн Халдуном: в поисках аналитической модели арабской революции 2011 г. // Pax Islamica, 1 (6), 2011, с. 90–113
[5] Tariq Ramadan. The Arab Awakening: Islam and the new Middle East. Penguin Books Limited, 2012.
[6] Политическое цунами. Аналитика событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке / Под ред. С. Кургиняна. М.: ЭТЦ, 2011.
[7] Зеленев Е. И. Арабская политическая культура: смута как форма политической борьбы. «Модернизация и традиции»: XXVI международная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, 20–22 апреля 2011 г.: Тезисы докладов / Отв.ред. Н. Н. Дьяков и А. С. Матвеев. СПб., 2011.; Исаев Л. М., Шишкина А. Р. Египетская смута XXI века. М.: Едиториал УРСС, 2012. С. 18–21.
[8] Зеленев Е. И. Указ. соч. С. 24.
[9] al-Djurdjānī, Kitab al-Ta‘rīfāt / Ed. G. Flügel, Leipzig 1845. S. 171.
[10] Gardet, L.. Fitna // Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online, 2012. [режим доступа: http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam‑2/fitna-SIM_2389]
[11] Ayalon, A. Thawra // Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online, 2012. [режим доступа: http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam‑2/thawra-SIM_7528]
[12] См., напр.: Гамаль Абд ан-Насир. Фальсафат ас-саура. ал-Кахира, 1954.
[13] Подробно об этом см.: Кулюшин Н. Д. Политическое и религиозное лидерство аятоллы Хомейни: опыт интерпретации политического лидерства в современном Иране // Pax Islamica, 1, 2008. С. 83–99.
[14] Коротаев, А. В., Зинькина, Ю. В. Египетская революция 2011 г.: структурно-демографический анализ // Полит.ру. Исследования / Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.polit.ru/research/2011/03/04/egyrev.html> ‑ 13.04.2011
[15] «По иракскому варианту…». Экс-посол РФ в Ливии Владимир Чамов отвечает на вопросы «Завтра» // Завтра, 30 марта 2011 года. № 13 (906). Беседовал В. Шурыгин
[16] Baymeh, Mohammed. Is the Lybian Revolution an Exception? // Muftah. Web: <http://muftah.org/?p=956&page=2>
[17] См., напр. Исаев Л. М., Шишкина А. Р. Сирия и Йемен: неоконченные революции. М.: Либроком, 2012. С. 242–243.
[18] Важно отметить, что речь идет именно о принципе организации такого братства, генерирующего ‘асабийные связи и укрепляющего пассионарность его членов именно за счет религиозной мотивации. Собственно мистицизм, связываемый обычно с суфизмом, в рамках которого сформировался классический тип таких братств, не имеет здесь принципиального значения. Гораздо большую роль играет добровольная дисциплина членов братства и их консолидация вокруг харизматического лидера — шейха или муршида. В этом смысле разница между, скажем, суфийским тарикатом шазилийа, опирающимся на теософское учение Ибн ‘Араби, и «Братьями-мусульманами», критикующими «великого шейха суфизма» с позиций, близких к неоханбалитским и салафитским, состоит лишь в идеологической маркировке. Характерно, что глава «Братьев» обозначается квазисуфийским термином ал-муршид ал-‘амм.
[19] Немаловажно, что успех турецкой модели «политического ислама» объясняется рядом исследователей именно тем, что в Турции удалось избежать противостояния ихванистов и тарикатистов и, собственно, линия Эрдогана — это результат сближения двух этих векторов. В этой связи можно предположить, что именно Турция (и, возможно, Марокко) будут продвигать в дальнейшем подобную линию, и, если подобные попытки увенчаются успехом, регион может перейти из эпохи «политического ислама» в эпоху «политического суфизма». Во всяком случае, термин «постисламизм», описывающий эту новую, гораздо более сложную реальность, уже введен в научный оборот.